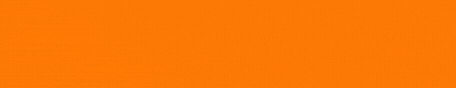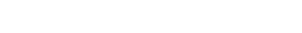Держаться корней
Для начала давай поговорим о твоих корнях. Насколько я знаю, ты внимательно относишься к своей генеалогии…
Да, я серьезно стала изучать ее в 2010 году, и проследила свою родословную по мужской линии до 1660 года. Это три поколения до того человека, который выехал из Пфальца (историческая область на юге Германии – прим. ред.) в Россию. Я даже была на мельнице, которая принадлежала моему предку. Сейчас из нее сделали очень красивое арт-пространство.
Был молодой парень по имени Казимир Мюльбергер (потом, уже в советской транскрипции фамилия станет Мильбергер), у которого, видимо, разорился отец, делать было нечего. В 1746 году он отправился в Россию. И кстати, судя по переписям, довольно быстро умер, но остались трое детей, от которых и ведется наш род.
В основном среди моих предков были ремесленники, портные, кузнецы, но многие занимались и сельским хозяйством. Я была в Поволжье, в том месте, где они жили до депортации. Там даже арбузы выращивали.
Расскажи, что это вообще была за этническая группа – русские немцы?
В Поволжье – примерно между современными Волгоградской и Саратовской областями – Екатериной II немцам были выделены огромные площади. Они сохраняли и язык, и веру, и культуру вплоть до конца XIX века, жили в практически закрытых общинах. Даже моя бабушка еще по-русски говорила с сильным акцентом.
В 1941 году Сталин издал указ, по которому всех немцев в течение суток собрали и в теп-лушках вывезли за Урал. Так бабушка с дедушкой оказались в Омской области. Выселение произошло в августе, но добрались до своего нового «дома» они чуть ли не в октябре. Буквально уже в снегу рыли землянку и в ней жили. У бабушки было трое детей, один – совсем малыш трехмесячный, умер в дороге.
На новом месте мужчин сразу призвали в трудовую армию (на фронт их было запрещено отправлять). Так и получилось, что бабушка с детьми осталась в Омской области, а дедушка – в лагере на Северном Урале. Они снова встретились чуть ли не в 1949 году, и тогда, кстати, впервые заключили официальный брак. Они воссоединились, но на Волгу их не пустили – там уже жили другие люди.
Вообще, когда такое узнаешь и представляешь, что людям приходилось пройти, все наши беды кажутся такими смешными…
Кем были твои родители? Как их свела судьба?
Папа – инженер, работал в золотодобыче. Мама у меня родом из Сибири, из города Бодайбо. Она училась на электротехника, отправилась на практику на Северный Урал. Там они с папой и познакомились, родились я и младший брат.
Какие самые яркие воспоминания остались у тебя из детства?
Самое раннее связано как раз с лошадьми. В те годы в нашем городе Краснотурьинске на лошадях развозили питание в детские сады. Мы выходили гулять перед садиком, а тут стояла лошадь. Таким был мой первый прямой контакт с этим животным. Я с четвертого этажа дома слышала цоканье копыт! Потом те же самые рабочие лошади оказались в секции по верховой езде. Одна женщина-энтузиаст Ирина Евгеньевна Вильданова решила открыть ее для детей. Она и стала моим первым тренером.
Я так понимаю, ты в принципе любила животных?
Каждое лето я проводила у бабушки с дедушкой в частном секторе: свиньи и козы, кошечки с собачками. Книг там было мало, среди них оказалось «Приусадебное животноводство». Я научилась читать лет в пять – во многом от скуки. Благодаря этой книге, я уже до школы знала чем, например, окоты от отелов отличаются. Мне дедушка потом в шутку говорил: «Будешь зоотехником!»
То есть, твое поступление в Тимирязевскую академию было предопределено?
Наверное. Но тут тоже все не так просто. Я всегда хорошо училась. Школу закончила с золотой медалью. Но был у меня в биографии интересный эпизод, когда после восьмого класса я чуть не уехала поступать в сельхозтехникум. Я тогда очень привязалась к своей подружке, с которой мы вместе занимались в конной секции. И вот она решила не идти в девятый класс. Ну и я – за компанию. У родителей, наверное, чуть инфаркт не случился: такая отличница, и какой-то сельхозтехникум. Но, видимо, мне психологически было важно не столько туда поступить, сколько добиться от родителей одобрения. Такое вот подростковое самоутверждение. И я их так достала, что они согласились: «Делай уже, что хочешь!». После этого я успокоилась и в итоге никуда не поехала.
Зато потом, когда поступала в Тимирязевку, они гораздо проще это приняли, хотя среди ближайших родственников никто не был связан ни с лошадьми, ни с сельским хозяйством в принципе. Бабушка только меня слегка троллила стандартной фразой типа «Будешь коровам хвосты крутить!».
Не помню того момента, когда я приняла решение поступать в академию. Это было как-то логично: мне нравятся лошади, зоотехник работает с ними, а учат на зоотехника в Тимирязевской академии. Цель ясна. Задачи поставлены.
Тимирязевское братство
Студенты зооинженерного факультета – это особая категория людей. Ты себя органично чувствовала в этой тусовке?
Да. Ты знаешь, мне кажется, мы немного похожи на медиков. Нас роднит определенный биологический цинизм, что ли. Если кого-то можно шокировать какими-то анатомическими подробностями, то для нас это профессия. В общежитии мы жили по факультетам, то есть сразу знакомились с нашими старшекурсниками. Ты там сразу как будто вплетался в этот венок профессиональной среды. И оказывался рядом со своими единомышленниками. Это было классно! Настоящее братство.
Твоим дипломным руководителем был Вадим Алексеевич Парфенов. Сложно было к нему попасть?
С этим тоже была связана история. Преддипломную практику я проходила в Пермском конном заводе на тяжеловозном отделении. Там занимались тогда русскими тяжеловозами. Практика должна идти примерно полгода, но мне уже через месяц сказали: «Все, поезжай! Мы тебе все подпишем». И я поехала к родителям в Пермский край. Там малюсенький город, я никого не знаю (они уже переехали из Краснотурьинска). Родители целый день на работе. Мне было скучно. Снова. Но у меня были данные по этим тяжеловозам. И представление, как рассчитываются индексы. От нечего делать я стала все это обрабатывать, делать какие-то анализы, составлять экстерьерные профили. В итоге получился отчет по практике, почти как курсовая. Парфенов тогда и обратил на меня внимание.
Это я к тому, что скука иногда бывает очень важным катализатором мыслительной деятельности!
Почему после получения диплома ты не пошла работать зоотехником, а осталась в академии?
Это же были 1990-е годы, в конных заводах тогда свои-то люди оставались без работы. Не говоря уже о выпускниках. Никто не приглашал меня. Но, знаешь, на кафедре коневодства мы на самом деле имели очень много связей с производством. Мы много ездили по хозяйствам, например, с Вадимом Алексеевичем. Я считаю, что я в полной мере осталась в профессии, в отрасли.
Мне повезло, и разрыва между учебой и карьерой не произошло.
Подрабатывала я в пейджинговой компании. Там я, во-первых, научилась быстро печатать слепым набором. А во-вторых, написала свою первую книжку «Спортивные породы лошадей Европы». На ночных дежурствах звонков мало, ты сидишь и переводишь источники. Приходишь домой и набираешь. Немецкий я к тому времени уже выучила, когда несколько раз была на практике в Германии во время учебы (в том числе в Гумбольдском университете по направлению молекулярной генетики).
Период работы в пейджинговой компании. Тогда Марина написала свою первую книгу (фото: из личного архива)
Безработный омбудсмен
Как ты сама идентифицируешь себя сегодня в профессиональном плане?
Я, наверное, назвала бы себя омбудсменом для коннозаводчиков. Если говорить проще, то я, пожалуй, консультант по коневодству. Сейчас, когда общаться с иностранными специалистами стало сложнее, перспективы в этом появились хорошие. Но лично мне не хватает подхода к этому, как к бизнесу. Для меня это, скорее, дело. Эти слова имеют разный смысловой оттенок. «Бизнес» подразумевает, что это обязательно должно приносить прибыль, а «дело» – это то, чем ты живешь. В конце 2022 года моя постоянная работа в качестве шеф-редактора журнала «Новое сельское хозяйство» накрылась, и с тех пор я нигде, по сути не работаю на полную ставку. У меня два места, где я по совместительству, а остальное – различные проекты. Выезжаю на инспекции. Все чаще консультирую, например, по первичной документации или племенным подборам.
Что для тебя является главной мотивацией в профессиональной деятельности?
Мой главный драйвер – любопытство. Сейчас я, например, участвую в одном проекте, связанном с ДНК. Там рождаются классные идеи! Меня позвали в этот проект, и мне любопытно. Меня всегда привлекает то, что я не делала раньше.
А второе – это возможность чему-то поучиться. Так я, кстати, пришла в судейство арабских шоу. Любопытно было, как это происходит изнутри.
Я раньше еще очень боялась, что что-то интересное пропущу, поэтому везде постоянно моталась. Сейчас уже стала более избирательной.
Вот чем точно бесполезно меня мотивировать, так это деньгами. По крайней мере, на поверхности этот мотив не лежит.
Знаешь, пару лет назад я внезапно всерьез задалась вопросом: а что такое вообще профессия зоотехника? И объяснила себе это так – приносить пользу животным, вот этим бессловесным созданиям, которые сами за себя сказать не могут.
Это было очень интересное чувство, когда сложился этот пазл: насколько эта работа объемнее, чем просто рассчитать рацион, составить план племенной работы или проследить за условиями содержания.
Ганноверский день в ПКХ «Элитар». Слева – Д-р Людвиг Кристман, справа – Олег ШЕЙКО (фото: из личного архива)
Не хотела ли бы ты иметь собственную лошадь?
Нет. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это ответственность. Я даже, понимаешь, не могу сказать, что люблю лошадей. Не могу назвать это словом «любовь». Они просто, как кусок меня, часть моей души. Мне достаточно пообщаться, прокатиться 20 минут, понюхать, чмокнуть в бархатную морду, просто рядом с лошадью постоять. Это не любовь. Любовь как чувство сносит голову. А тут базовая потребность.
К тому же у меня в каждом хозяйстве есть своя любимая лошадь. Причем они периодически меняются. И я понимаю, что если я сама стану коневладелицей, это немножко будет замыливать взгляд.
Есть такое мнение, что, не имея собственного опыта коневладения, ты не имеешь морального права представлять интересы коневладельцев…
Если я заведу себе, условно говоря, ганноверскую лошадь, это будет для кого-то знак, что я люблю ганноверов. И точно так же с любой другой породой.
Я считаю, что вправе представлять интересы заводчиков, потому что это как раз не мои личные интересы. Я прекрасно их понимаю, потому что знаю лично очень много заводчиков. У них трезвый ум, я могу анализировать их мнения, могу переспрашивать. Тут как раз научный подход.
А собственная лошадь – это уязвимость. С какими только породами я сейчас не сотрудничаю: от орловских рысаков до чистокровных арабов. И могу себе позволить это, как раз потому,что ни к одной не привязана лично. Никто не воспринимает меня (я надеюсь!) как продвиженца чьих-то узких интересов.
Марина в числе судей арабских классов («Традиционный костюм») на выставке «Иппосфера» (фото: из личного архива)
Породы «для галочки»
Ты писала свою кандидатскую по тракененской породе* (*Тема кандидатской диссертации Марины Политовой: «Хозяйственно-полезные качества тракененской породы лошадей в России»). Почему ты выбрала эту тему?
Как я уже говорила, моя главная движущая сила – любопытство, поэтому я стараюсь всегда заходить на новую территорию. На третьем курсе, например, я писала курсовую по буденновцам. Потому что в то время мы изучали породообразование, скрещивания, мне хотелось в этом разобраться. Моя дипломная работа была по тяжеловозам. Ими тогда почти никто не занимался, а русские тяжеловозы – они еще и красивые.
Потом дело дошло до выбора темы диссертации. Кого бы взять? Была интересна спортивная порода, а на стартах тогда мы видели в основном буденновцев и тракенов. С буденновцами я, вроде, «галочку» уже поставила. Остаются тракены. Плюс это еще и повод немецкий язык применить. Я ведь очень много материала привезла из Германии.
Ты очень давно позиционируешься как специалист по полукровным спортивным лошадям. Получается, что тракененская порода стала для тебя «дверью», через которую ты вошла в эту «комнату»?
Да, именно дверью. Мне тогда и в голову не пришло, что сферы в науке так поделены, и кто-то может расстроиться, что аспирантка Парфенова зайдет на «чужую территорию» и станет писать не о русской верховой породе (она меня тогда интересовала в меньшей степени), а о тракененской.
К тому же тогда у нас сложилось классное и продуктивно мыслящее породное сообщество: был форум в Сети, где велись дискуссии, появилась первая общественная онлайн-база. Мы были молодые, знали иностранные языки и видели, что происходит в европейском коннозаводстве. А в нашей стране оно как раз находилось в состоянии перелома. Советского Союза с его огромными госзаказами и установленными ценами уже нет, а новая модель еще толком не выработалась. Мы видели, что «старая гвардия», кроме Парфенова, вообще никак не хочет меняться.
Я поняла, что в принципе, не хочу никого травмировать, да и на тракенах свет клином не сошелся. В этот момент мы очень удачно познакомились с Олегом Всеволодовичем Шейко (руководитель племенного коневодческого хозяйства «Элитар» – прим. ред.), который как раз начинал заниматься ганноверанами, и которому я обязана многим. Так и родился Ганноверский клуб, отмечающий в 2025 году свое 20-летие. Я, кстати, к этой дате написала монографию «Ганноверская порода лошадей: история создания, современное состояние и организация племенной работы».
В твоей личной коллекции уже так много пород, которыми ты занималась в той или иной форме: тяжеловозы, буденновцы, тракены, ганновераны, русские верховые. Даже орловские рысаки...
В Национальную ассоциацию заводчиков и владельцев лошадей орловской породы меня пригласили, потому что оказались востребованы мои навыки не столько как коневода, сколько как человека с возможностью взглянуть на отрасль чуть со стороны и умением писать аналитические тексты. Когда я работала в редакции «Нового сельского хозяйства», я увидела не только коневодство, но и животноводство как отрасль в целом.
Я абсолютно не азартный человек – меня вообще не цепляют все эти секунды, за которые рысаки бьются на ипподроме. Но есть базовые вещи, применимые к абсолютно любой породе. И с орловцами мне тоже было любопытно разобраться.
Так же было, и когда меня пригласили посудить арабские шоу. Я взяла толстенную книгу по судейству арабов, изучила, посмотрела все видео, какие были доступны на английском языке. В общем, загрузила в себя кучу информации. Но она легла не на пустое место.
В любой породе столько кличек и фактов, что ты просто не в состоянии запомнить все. Это нормально. И если я понимаю, что не знаю каких-то нюансов, то делаю себе пометку – «в этом надо разобраться». Никакого комплекса неполноценности я при этом не испытываю.
Это все то же любопытство. Я всегда с удовольствием оказываюсь в среде, где я мало знаю, потому что я могу услышать что-то интересное. И именно так, кстати, часто и рождаются новые идеи.
В качестве инспектора-регистратора Марина ПОЛИТОВА каждый год описывает десятки жеребят (фото: из личного архива)
Не пресыщаешься ли ты знакомыми темами? Что ты, например, можешь открыть для себя нового в ганноверской породе?
Ничто не стоит на месте, в том числе и коневодство. Особенно если ты смотришь на это как зоотехник: как меняются испытания, как меняются методы оценки, организационные и экономические условия. Меняется сама статистика. Можно сколько угодно любить лошадок и даже пытаться их размножать, но для прогресса любой отрасли надо знать, как она работает. По каким механизмам. Те, кто не хочет так думать, получают жеребят от «Крючка» и «Задвижки», которые потом оказываются на бойне.
Я не перестану прикладывать все усилия, чтобы донести до людей, что некоторые вещи лучше вовсе не делать, чем делать, не понимая.
Какие в среде конников существуют хронические проблемы, которые не получается решить?
Главная большая проблема – это неприятие других мнений. При том, что наш рынок далеко не насыщен, очень многие друг друга готовы травить, и за счет этого подниматься. Почему-то, когда появляется новый человек, его воспринимают, исключительно как конкурента, если не сказать – как врага. Вот этот снобизм – наша болезнь.
А что касается разведения, неискоренимая проблема – слепая вера в клички и линии: если в седьмом поколении есть выдающийся производитель, то лошадь будет прекрасная. А какими-то по-настоящему базовыми вещами пренебрегают.
Ты как-то высказала мысль, что в нашей стране образовался большой пул коннозаводчиков без специализированного образования. Тоже похоже на снобизм…
Я продукт советского воспитания. Для меня снобизм – в принципе чуждое явление. Сортировать людей по их образованию – это дурной тон. Хотя, наверное, произвожу впечатление, что сама делаю именно так? Нет, я ко всем стараюсь одинаково относиться. Очень ценю в людях стремление учиться и развиваться. Перед теми, кто готов на это, я снимаю шляпу.
Диагноз: «графомания»
Список твоих публикаций уже измеряется сотнями. А ты помнишь, как написала свою первую статью?
Моя первая статья вышла в 1995 году, была она в сборнике студенческих работ. И это единственная публикация под моей девичьей фамилией Мильбергер. Она была посвящена вводному скрещиванию в русской тяжеловозной породе. Тема всяких скрещиваний всегда интересовала меня гораздо больше, чем, скажем, кормление или содержание. Племенная работа гораздо сильнее будоражит: как причудливо тасуется колода, насколько можно из одного и того же сложить разные пазлы, разные картинки из одних и тех же элементов. Такой элемент волшебства, наверное.
Почему написание статей стало для тебя таким важным делом? В этом есть какая-то внутренняя потребность?
Есть много тем, в которых мне интересно разобраться, причем они появляются чуть ли не каждый день. Так вот когда я пишу, то в первую очередь для самой себя перевариваю и структурирую информацию, кладу в удобную форму.
И второй момент. Ко мне стали все чаще обращаться с вопросами, зачастую очень похожими. И я поняла, что мне проще один раз написать, например, внятную, доходчивую статью, чтобы ответить сразу всем. Мне не жалко повторить, просто, пока я трачу время на это, я не делаю что-то другое, новое.
Получается, ты живешь от одной идеи до другой?
Нет, я не могу мыслить только одним проектом. У меня есть такая специальная планшетка, на которую цепляются листочки. И там у меня несколько линий, по которым я веду все темы, которые на данный момент в работе на разной стадии. Сейчас, например, в реальном времени там как минимум четыре материала.
Но есть один день в неделю – воскресенье, когда я заставляю себя не подходить к компьютеру, как бы не чесалось что-то написать.
В качестве инспектора-регистратора Марина ПОЛИТОВА каждый год описывает десятки жеребят (фото: из личного архива)
Симбиоз с дочерью
Если позволишь, немного о личном. Во-первых, откуда взялась твоя нынешняя фамилия?
Начну немного издалека. На третьем курсе, поняв, что конный спорт в нашем тимирязевском манеже мне не светит, я с одногруппниками начала заниматься айкидо. Мы ездили сначала на Динамо. Потом наш сенсей переехал в Беляево. И мы мотались туда три раза в неделю. Собственно, там я и познакомилась со своим будущим мужем. Он никакого отношения к лошадям не имел, но мы хорошо сдружились. А поженились на следующий день после моей защиты диплома – в июне 1995 года.
Он был москвич, интеллигентный, но совсем не рафинированный. Такой, настоящий мужчина. Человек, с которым было надежно. Правда, в молодости очень легко влюбленность и крепкую дружбу принять за серьезное чувство. Мы вместе восемь лет прожили, но в какой-то момент поняли, что мы на самом деле слишком разные. Разошлись абсолютно безболезненно и со взаимным уважением.
Почему ты не стала менять фамилию обратно?
Из практических соображений: к тому моменту у меня было множество статей под фамилией Политова. Я как представила, что придется доказывать, что они – мои... Да и документы пришлось бы менять. Так и вышло, что дочь моя, родившаяся позднее, осталась с этой фамилией. А когда она получала паспорт, взять мою девичью сразу оказалось невозможно.
Я так понимаю, классическая большая семья твоему образу жизни не очень подходит?
Да, наверное. У меня, например, сильно развит какой-то территориальный инстинкт. Я очень плохо переношу, когда надо с кем-то делить пространство. Когда кто-то мои книги, например, перекладывает или заходит на кухню, когда я там готовлю.
Сейчас у меня вполне комфортный режим, когда со мной постоянно живет только дочь и три кота.
Еще я не люблю готовить, но мне нравится делать уборку – это позволяет мне мысли сфокусировать. Мне повезло с дочкой – она-то готовить любит. В этом плане у нас с ней прям бытовой симбиоз.
Как ты сейчас смотришь на будущее дочери?
Самое главное, что родители должны дать детям – это показать, что люди могут быть счастливы. Саша видит, что я востребованный и уважаемый человек, ей очень интересно, когда меня показывают по телевизору, берут интервью и так далее. Детям всегда это важно. Но я помню все эти фразы из собственного детства про «коровам хвосты крутить», и понимаю, что мой ребенок не должен слышать подобное в отношении своего выбора, как бы я к нему не относилась
Поэтому я пытаюсь донести до нее только две вещи. Первое – чтобы чего-то достичь, нужно поставить себе цель и идти к ней. Просто так ничего не дается. И второе (то, что ее больше всего бесит) – нужно планировать время и не тратить его на всякую ерунду. Мне просто больно смотреть, как люди расходуют жизнь на залипание в телефоне.
Что тебя может удивить?
Удивляют каждый год жеребята. Такие бывают отметины интересные, да и сами они все разные. Сколько бы их не видел за всю жизнь, они все равно удивительные! Ну и люди, конечно! Особенно профессионалы и энтузиасты.
Альпы – как главное место силы (фото: из личного архива)
Какой у тебя персональный рецепт счастья?
Найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня в жизни.
Если честно, я ожидал от тебя чего-то поинтереснее…
Слушай, все умные слова уже сказаны. Но ведь и правда, надо найти себе дело по душе. И чтобы это было еще и нужно людям. Все. Это и есть главный рецепт.
Дети вырастают и уходят, а у кого-то и вовсе нет детей. У кого-то любовь не складывается, умирают близкие люди. Но если ты делаешь то, что тебе нравится, и при этом нужно другим… Что еще придумать для счастья?
__________________________
Персональный топ…
…главных лошадей всех времен:
Вельтмайер, Дарк Рональд, Сметанка.
...главных иппологов:
Густав Рау, Людвиг Кристман, В. А. Парфенов.
…главных мест на Земле:
Альпы, Урал, Алтай.
…любимых предметов в школе:
Биология, химия, литература.
…любимых писателей:
Илья Ильф и Евгений Петров, Виктор Пелевин, Стивен Кинг, братья Стругацкие, М. Ю. Лермонтов.
…любимых фильмов/сериалов:
«Золотой теленок», «Двенадцать стульев» (реж. Леонид Гайдай), «Кин-дза-дза», «Хоббит», «Игра престолов», «Отчаянные домохозяйки».
…любимых блюд:
тартар из говядины, долма, хычины.
…человеческих качеств:
доброта, интеллект, профессионализм.
…способов перезагрузиться:
Поездка в горы, баня, гончарный круг, вождение автомобиля.
(фото: из личного архива)
ЦИТАТНИК ПОЛИТОВОЙ
Если вам доводилось лично общаться с Мариной, вы наверняка заметили, что почти на каждую тему у нее в голове найдется мудрая мысль кого-нибудь из классиков. Только в процессе этого интервью точно прозвучала пара десятков цитат. Вот некоторые из них.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц! (И. Ильф и Е. Петров)
Зачем Вам деньги, Киса? У вас совершенно нет фантазии! (И. Ильф и Е. Петров)
Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов. (из к/ф «Адвокат дьявола»)
– А люди, люди изменились?
– Нет, люди все те же. Милосердие иногда стучится в их сердца. (М. А. Булгаков)
Воин тем и отличается от обычного человека, что он все принимает как вызов, тогда как обычный человек принимает все как благословение или проклятие. (К. Кастанеда)
Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья! (М. Ю. Лермонтов)
Живи так, чтобы никогда не было стыдно, если что-то, что ты делаешь или говоришь, станет известно всему свету, — даже если то, что станет известно, будет неправдой (Р. Бах)
Я не психопат, а высокоактивный социопат. Выучи термины. (из сериала «Шерлок»)

2025/IMG_20240412_223341_2.jpg)
2025/IMG_5821.jpg)
2025/mf_T5qerqvQ.jpg)
2025/M87A2157.jpg)
2025/0AbaMIqEGb8.jpg)
2025/WWiHQVcV3gQ.jpg)
2025/20181111-IMG_1947.jpg)